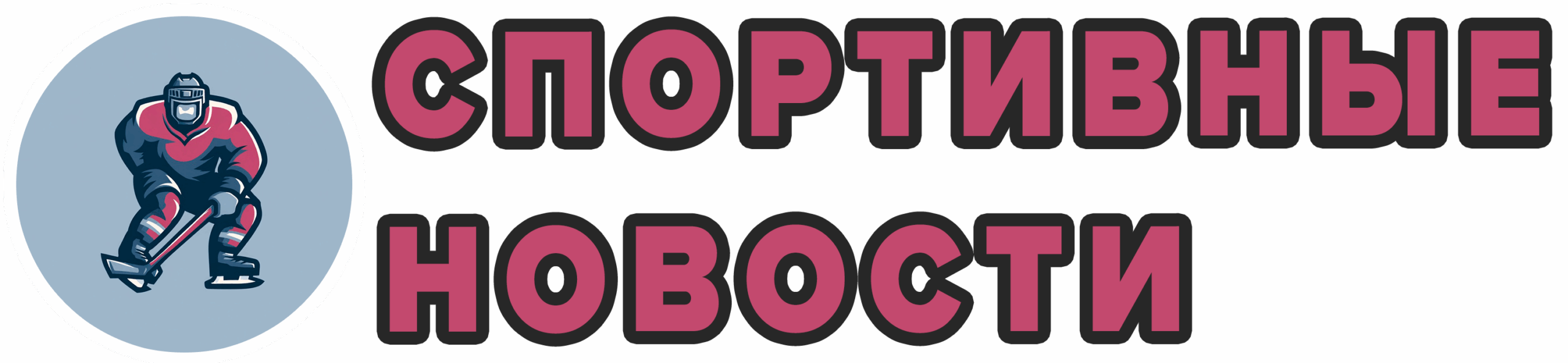Валентин Иванович Козин – личность в мире хоккея по-настоящему уникальная. Немногие могут похвастаться таким разнообразием профессиональных ролей. На льду он был известен как успешный правый крайний нападающий, один из лучших снайперов своего времени, который начал и завершил свою долгую и яркую игровую карьеру на этой позиции.
Помимо успешной карьеры игрока, Валентин Иванович провел около десяти лет в качестве хоккейного арбитра, семь раз входя в десятку лучших судей сезона, что свидетельствует о его высоком профессионализме и авторитете в судейском корпусе.
Значительный след Валентин Иванович оставил и как спортивный функционер. Он занимал ответственные, по-настоящему рабочие должности в Федерации хоккея СССР и России, включая пост генерального секретаря ФХР. На рубеже веков он тесно работал с молодежной сборной России в качестве начальника команды, активно участвуя в ее формировании и подготовке.
Уйдя от повседневных управленческих дел, Козин продолжал служить хоккею, инспектируя матчи Континентальной Хоккейной Лиги. В последние годы он также проявил себя в литературном творчестве, выпустив совместно с известным журналистом Леонидом Рейзером солидный труд под названием «Хоккей. Уроки русского». Эту почти 500-страничную книгу называют фундаментальной, и, судя по доступным отрывкам, эта оценка вполне справедлива. Написать такую объемную и содержательную книгу в солидном возрасте – задача, требующая огромных сил и энергии, поэтому соавторы, безусловно, заслуживают глубокого уважения.
Книга не является чистыми мемуарами, хотя личные воспоминания Валентина Козина, безусловно, присутствуют. Это и неудивительно, ведь он непосредственно общался со многими выдающимися деятелями отечественного хоккея и был причастен ко многим важным событиям в его истории. «Уроки» представляют собой значимый вклад в осмысление феномена российского хоккея, анализируя различные аспекты тренерской деятельности на примере портретов отцов-основателей и их последователей. В книге нет места «жареным» фактам или скандалам – это не в стиле Козина, которого подобные темы интересуют меньше всего, да и его профессиональная деятельность не располагала к дешевой сенсационности.
Мои личные встречи с Валентином Ивановичем, происходившие, например, во время чемпионатов мира «доквебекской» эпохи, позволяют сделать вывод, что его аппаратная закалка во многом формировала стиль общения. Всегда элегантный, подтянутый, с иголочки одетый, он относился к моим вопросам, как мне казалось, с легкой иронией. В диалоге избегал резких оценок, оценивал ситуацию не сиюминутно, а в динамике, и создавалось впечатление, что он всегда знал гораздо больше о происходящем, чем говорил. Это характерное свойство любого опытного функционера: он не размахивает руками и не спешит делиться секретами.
Такая манера поведения вполне объяснима, учитывая его карьерный путь. Козин работал в Управлении хоккея Спорткомитета СССР (ответственным секретарем, а затем заместителем председателя), возглавлял коммерческий комитет федерации. Пост генерального секретаря Федерации хоккея России он занимал в 2000-х годах – время, когда стабильность только еще предстояло обрести, но прорыв был уже близок. Его приближали многие люди на разных уровнях, для которых судьба отечественного хоккея не была пустым звуком.
Не углубляясь в детали, можно с уверенностью сказать, что Козину-функционеру досталось немало трудностей. Это были годы бурных дискуссий и скромных успехов. Кредит доверия к российским хоккейным структурам периодически исчерпывался и восстанавливался с трудом. Пройти сквозь турбулентность таких должностей было невозможно, и Валентину Ивановичу, независимо от того, соглашался ты с ним или нет, можно было только посочувствовать. Опыт, включая аппаратный, безусловно, важен, но перелом был слишком резким, а задачи – слишком масштабными и новыми, чтобы легко найти проторенную дорогу. Возможно, Валентин Иванович обдумывает мемуары о самых кризисных временах отечественного хоккея, но, полагаю, такие воспоминания душу не греют.
Судейская часть карьеры Козина сложилась весьма успешно. У него была склонность к этому, хотя сам он ее не сразу заметил. Отсудив однажды в юности одну игру и получив похвалу, он на предложение серьезно заняться судейством почти возмущенно ответил, что еще не стал настоящим хоккеистом. Гораздо позже, ощутив на себе, каково это быть человеком со свистком, он не раз повторял, что судейство – удел игроков, уже многое повидавших в хоккее. Без понимания духа игры одних только правил недостаточно.
К судейству Козина привлек Андрей Васильевич Старовойтов – легендарная личность в нашем и в некоторой степени мировом хоккее, «человек с очень приметливым взглядом, досконально знающий хоккейное дело», «мудрый и взвешенный». Козин начинал с первенства Москвы, прошел школу первой лиги и довольно быстро стал судить матчи высшего дивизиона. Старовойтов не разочаровался в своем выборе – Валентин Козин не попал в самый элитный ряд судей, но пользовался значительным авторитетом, ошибался не чаще других, стремился находить баланс между буквой и духом правил, успешно справлялся со сложными ситуациями и отработал на хорошем уровне восемь лет. Возможно, без этого судейского опыта его карьера функционера сложилась бы иначе.
Однако отправной точкой всего была его игровая карьера, корни которой уходят в военное и послевоенное московское детство. Мать была парикмахером, отец работал в нефтегазовом НИИ, прошел войну от рядового до старшины. Валя Козин формировался в атмосфере пресненских переулков и дворов, которые во многом определили уникальность того хоккейного поколения. Современное хоккейное образование в комфортных условиях унифицировано, тогда как двор не выпускал одинаковых игроков – каждая мелочь влияла и развивала индивидуальность. Именно поэтому звезды тех лет были так непохожи друг на друга. Это не ностальгия по прошлому, а констатация факта.
Великий тренер Анатолий Михайлович Кострюков, к которому Валя Козин попал в «Локомотив» после секции «Метростроя» по рекомендации тренера Нила Гугнина, вспоминал в интервью Николаю Вуколову, что у Козина было прозвище «Мотыль». Кострюков считал, что это из-за его «порхающего» катания (хотя можно было бы подумать, что от глагола «мотыляться», но доверимся маститому наставнику). Такое катание – наследие дворовых игр, его невозможно специально научить или переучить. В «Локомотиве» конца 50-х пробиться в состав было сложно, и новичку пришлось побыть в запасе, но недолго. Он много работал и поначалу играл в звене с Александром Гришиным и Юрием Чумичкиным, демонстрируя мощный потенциал. Сезон 1960-1961 «железнодорожники» провели сильно, заняв третье место в чемпионате, что стало единственной медалью для клуба в истории. Интересно, что горьковское «Торпедо», обошедшее их на одно очко, также завоевало свою единственную медаль.
В том «Локомотиве» блистало первое звено Николай Снетков – Виктор Якушев – Виктор Цыплаков, которое в полном составе вошло в сборную СССР. Осенью 1962 года место Снеткова занял Валентин Козин. Его партнеры были на три года старше и опытнее, но они всячески поощряли его умение опережать соперников в ключевые моменты – Козин был не только быстр на коньках, но и быстро соображал. В таком окружении Валя начал эффективно терзать оборону соперников, забивая не хуже Виктора Цыплакова (для Виктора Якушева личные голы не были приоритетом – он снабжал партнеров передачами и надежно отрабатывал в защите). Есть мнение, что звено заиграло даже лучше, чем со Снетковым, однако к тому времени состав сборной уже был практически сформирован.
Якушев был незаменимым игроком в команде Чернышева и Тарасова, для него место в сборной находилось всегда. А вот Козин со всей тройкой сыграл в сборной лишь дважды – в январе 1964 года в товарищеских предолимпийских матчах с Канадой и США. Американцам Козин забросил три шайбы, Якушев – две, но на Олимпиаде в Инсбруке партнерами Якушева в центре нападения были уже армейцы Леонид Волков и Анатолий Фирсов.
Возможно, Анатолий Владимирович Тарасов так и не простил Козину отказ перейти в ЦСКА, хотя мэтр явно намекал на перспективы, пробуя его в сборной еще на исходе 1962 года в звене с армейцами Дроздовым и Фирсовым. Но управы на своенравного игрока у всесильного Тарасова не было – Козин очно учился в институте инженеров транспорта, где была серьезная военная кафедра со специализацией по восстановлению путей. Тарасов отступил, но одновременно закрыл ему дорогу в главную команду страны. Во второй сборной Валентин Козин был завсегдатаем, выиграл в ее составе две Зимние универсиады, много ездил по миру, но к середине 60-х стало окончательно ясно, что о первой сборной можно забыть.
«Локомотив» больше не попадал в призеры, но давал бой любому сопернику, а Валентин Козин к концу 60-х забросил за клуб в чемпионатах страны более 160 шайб – результат, несомненно, впечатляющий, второй в истории клуба (первый – у Виктора Цыплакова). По другим данным, на счету Козина в «Локомотиве» 206 шайб, но это, вероятно, с учетом голов в сезоне 1968-1969 в турнире за 7-24 места. «Локомотиву» тогда не хватило всего одного очка для попадания в финальную шестерку. Валентин Козин забивал много и играл здорово, но… перешел в подольское «Торпедо», а родному клубу оставалось быть на виду недолго. Козин уже почти смирился с мыслью о завершении карьеры после двух сезонов в Подольске, но тут последовало неожиданное предложение от Николая Семеновича Эпштейна.
Это стало одним из знаковых событий межсезонья 1971 года: недавно завоевавший бронзу «Химик» пригласил уже списанного, казалось бы, нападающего. Эпштейн даже пошутил, что «вынимает Козина из-под нафталина». Мудрый Семеныч знал, что делал – он понимал, что едва перешагнувший четвертый десяток Козин отнюдь не исчерпал свой потенциал. Козин назвал свой приход в «Химик» «второй молодостью», и его результативность это подтверждает: 15, 17, 19, 21 шайба в четырех сезонах. Чем старше становился капитан «Химика», тем больше он забивал! Это факт неординарный. У ветерана Козина отлично получалось играть с Виктором Ликсюткиным и Александром Голиковым, а также с обоими братьями Голиковыми. Кстати, в сезоне 1974-1975, когда «Химик» финишировал четвертым, 34-летний Козин разделил с 22-летним Александром Голиковым звание лучшего снайпера команды – по 21 шайбе. После этого была «командировка» в Австрию, возвращение в Воскресенск и плавный переход в судейскую карьеру. Игровая карьера Валентина Козина продлилась почти 18 сезонов, за время которой он успел получить второе высшее образование, окончив институт физкультуры.
Валентин Козин во всех своих ипостасях – фигура заметная, но при этом остающаяся несколько в тени. Вероятно, это связано с его натурой, нежеланием лишний раз привлекать внимание или выпячивать себя.
За него говорят его карьеры. Вернее, карьеры – их у Козина было столько, что многим остаётся только завидовать.
Досье
Валентин Иванович КОЗИН. Родился 7 июня 1940 года в Москве. Советский хоккеист (нападающий), тренер, хоккейный судья, спортивный функционер. Мастер спорта международного класса, судья Всесоюзной категории.
Карьера игрока. 1959-1969 – «Локомотив» (Москва), 1969-1971 – «Торпедо» (Подольск), 1971-1975 – «Химик» (Воскресенск), 1975-1977 – «ВАТ Штадлау» (Австрия), 1977-1978 – «Химик».
В чемпионатах СССР – 414 матчей, 235 заброшенных шайб. В национальной сборной СССР – 3 матча, 3 гола.
Достижения. Бронзовый призер чемпионата СССР 1961. Финалист Кубка СССР 1972. Обладатель Кубка Шпенглера 1967. Обладатель Кубка Ахерна 1972.
Чемпион Всемирной зимней Универсиады 1966, 1968, серебряный призер 1962.
В списке 34 лучших хоккеистов сезона 1964, 1965, 1966. Входит в число лучших снайперов отечественных чемпионатов (235 шайб), член клуба Всеволода Боброва (258 шайб).
Карьера хоккейного судьи и спортивного функционера. 1978-1988 – судья Всесоюзной категории. 1985-1989 – ответственный секретарь Федерации хоккея СССР, старший тренер Управления хоккея Спорткомитета СССР. 1990-1992 – заместитель председателя ФХ СССР. 1999-2001 – молодежная сборная России, начальник команды и генеральный менеджер. 2001-2002 – «Лада» (Тольятти), генеральный менеджер. 2004 – сборная России, генеральный менеджер. 2002-2007 – генеральный секретарь Федерации хоккея России. 2008-2015 – инспектор матчей чемпионата КХЛ.